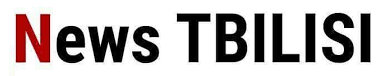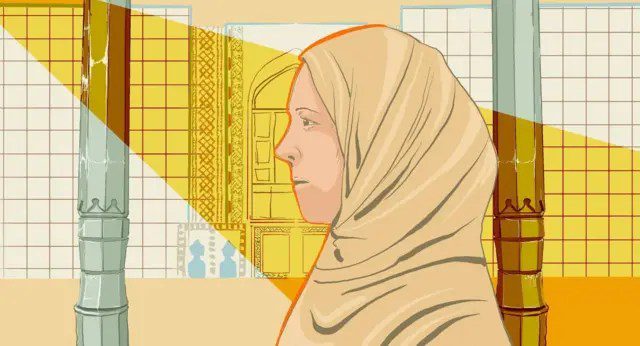«Передайте уйгурам, чтобы они не возвращались». Что происходит в китайском Синьцзяне
- Автор, Айсымбат Токоева
- Место работы, Би-би-си
«…И когда он понял, что мне можно доверять, он делает такой жест — проводит указательным пальцем сверху вниз, как по экрану — «включи авиарежим», — рассказывает Шахрияр. — Потом говорит: «Оставьте телефон здесь», и мы уходим подальше…»
Когда Китай отменил визы для граждан Казахстана и открыл границы Синьцзяна, вернуться в регион получили возможность не только живущие за границей родственники уйгуров, но и иностранные исследователи. Они рассказывают, что за внешним комфортом в Синьцзяне стоит тотальный контроль, а спокойствие держится на страхе и памяти о массовых репрессиях и «лагерях перевоспитания».
Шахрияр* — этнический уйгур из Казахстана — смог приехать в СУАР (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) впервые за девять лет, воспользовавшись безвизовым режимом. И теперь он рассказывает Би-би-си, что увидел в Синьцзяне и что изменилось со времен его последнего визита.
«Потом в другом городе была похожая ситуация… Тот же жест включения авиарежима: «Давай аккуратно в подсобке поговорим»…»
Синьцзян открылся для внешнего мира и активно принимает туристов (главным образом из других частей Китая). Правда, понять, как живется уйгурам, по-прежнему непросто. В городах исчезли блокпосты, приезжие отмечают, что города выглядят мирно и расслабленно. Но за этим видимым спокойствием наблюдают сотни камер слежения, а местные жители избегают чужаков либо говорят однообразными фразами, как улучшается их жизнь благодаря партии и правительству КНР.
Наблюдения и редкие разговоры без телефонов свидетельствуют о том, что не все попавшие в лагеря вернулись домой, что дети уйгуров и других нацменьшинств разговаривают друг с другом на китайском, а мечети, хоть и открылись, больше не заполняются.
«Добро пожаловать в Синьцзян!»
Ипархан* прилетела в Урумчи, административный центр Синьцзяна, в начале 2024 года. Она изучает историю уйгуров и региона, и эта поездка была ее давней мечтой. По прилету в Урумчи Ипархан не заметила толп туристов. В аэропорту она оказалась одной из очень немногих иностранцев. Уточнив, что цель поездки — «туризм», ее пропустили без дополнительных проверок и вопросов.
С отменой ковидных ограничений никаких особых требований к иностранцам нет. Таким образом, Синьцзян оказывается даже более доступным для поездок, чем, например, Тибет.
Но за несколько дней, проведенных в разных местах Синьцзяна, Ипархан поняла, что атмосфера в регионе лишь кажется расслабленной. Она просит не называть своего настоящего имени, чтобы не попасть в «черные списки» и не создать проблем для людей, с которыми она встречалась в КНР.

Ипархан — мусульманка. На фото в ее европейском паспорте она в платке. Поэтому она была готова к вопросам на границе, но пограничники ей не заинтересовались. В аэропорту Урумчи она сменила платок на капюшон худи, но о том, что в Синьцзяне «не принято» носить хиджаб, ей напомнили, когда полиция пришла к ней в отель для проверки документов.
Это произошло через несколько дней после прилета. Утром позвонили со стойки регистрации и попросили спуститься в лобби. Внизу ожидали двое офицеров — этнический уйгур и китаец. Задавали вопросы о цели визита и планах. Когда она вручила свой паспорт уйгурскому офицеру, у него дрожали руки, вспоминает Ипархан.
«Он спросил: «Как вы выучили уйгурский?» Я объяснила, что он похож на мой родной язык. После множества вопросов он заглянул в мой паспорт и, запинаясь, сказал, что я не могу ходить в таком виде, имея в виду хиджаб на фотографии», — рассказывает Ипархан.
«Мне говорили, что казахстанцев проверяют, уйгуров, в частности, долго проверяют. Но я решил, что я хочу посмотреть, как это будет», — рассказывает Шахрияр, вспоминая, что китайская пограничница сразу же сказала «Уйгур? Подождите».
Он смог приехать в СУАР впервые с 2015 года. Его предыдущий и последний визит пришелся на самое начало массовых арестов. «Тогда уже начинали пропадать люди». А когда Шахрияр попытался получить визу в 2016 году, ему было отказано.
Допрос на границе длился четыре с половиной часа. Шахрияр сидел в отдельной комнате в компании двух вооруженных солдат. Вопросы задавали несколько офицеров, которые изучали содержимое его телефона и по очереди заходили и выходили из комнаты — двое этнических уйгуров и казах.
«Заходит один: «У тебя есть звонок такому-то. О чем вы говорили?» Говорю: «Без понятия». Меня попросили позвонить, может быть. Я не знаю этого человека — у меня даже в контактах его нет, — вспоминает Шахрияр. — То есть, они диктуют какой-то номер и говорят, что я на него звонил, а у меня он в контактах не сохранен».
«Граница работает до восьми. Смотрю — время уже 8:30. Я думаю: всё — походу меня уже заберут. Сейчас приедет полиция или еще кто-то, и меня уже просто не выпустят… Но в итоге они сказали: «Всё окей, ты свободен»», — вспоминает Шахрияр.
Лагеря перевоспитания и тюрьмы
В Синьцзяне живут около 12 миллионов уйгуров. Уйгурский язык относится к тюркским языкам и наиболее близок к узбекскому.
С 1990-х годов Китай, как и многие другие страны, опасался роста исламского фундаментализма. События в соседнем Афганистане и других странах показывали возможные варианты развития событий. Кроме того, власти КНР всегда крайне болезненно воспринимали любые намеки на сепаратизм, а пример республик Центральной Азии, получивших независимость после распада СССР, выглядел для многих уйгуров вдохновляющим.
Власти КНР начали закручивать гайки после масштабных межэтнических столкновений в Урумчи в 2009 году. После серии нападений за пределами СУАР — включая резню на вокзале в Куньмине весной 2014 года, жертвами которой стал 31 человек — правительство Китая объявило о начале кампании «Мощный удар против терроризма».
Помимо развертывания систем тотального цифрового контроля, проверок документов и сбора персональных (в том числе медицинских) данных, начались массовые задержания. К 2017 году репрессии в Синьцзяне, по оценкам наблюдателей, вышли на пик.
Датский антрополог Руне Стинберг рассказывает, что уйгуров и представителей этнических меньшинств сначала помещали в следственные изоляторы, далее их распределяли по «лагерям перевоспитания» или отправляли в тюрьмы. Стинберг и его коллеги, занимающиеся исследованием Синьцзяна, подсчитали, что через «лагеря перевоспитания» прошли от одного до двух миллионов человек — мусульман и представителей этнических меньшинств.
«Хуже всего, безусловно, тюрьма, второе — следственный изолятор, а лагерь перевоспитания бывает разных видов, некоторые из них немного лучше других, но все они ужасны. […] В следственных изоляторах их допрашивали, их часто пытали, именно там, а не в лагерях, применяли больше насилия. В лагерях тоже происходили издевательства, но самые тяжкие и самые жестокие издевательства происходили в следственных изоляторах. Те, кто не был осужден или был осужден, но затем помилован по милости партии, отправлялись в лагеря перевоспитания», — поясняет Стинберг.
Китайские власти все это называли «программами де-экстремизации, перевоспитания и профессиональной переподготовки». Согласно официальным отчетам, с 2014 до 2019 год в «программы профессиональной подготовки» были вовлечены 1,3 млн человек.
Правозащитники заявляли, что речь идет по сути о невиданных со времен Второй мировой концентрационных лагерях, в которых распространен рабский труд, пытки и изнасилования. В 2022 году Би-би-си получила доступ к внутренним полицейским документам, из которых следовало, что при попытке к бегству охране предписывалось стрелять на поражение.
Кроме того, почти полмиллиона детей из семей нацменьшинств были отправлены в интернаты, где из них должны были воспитать лояльных КНР граждан, писала New York Times.

Несколько стран, включая США, Британию, Нидерланды и Канаду, признали политику КНР в отношении уйгуров геноцидом.
Правительство Китая настаивало, что его действия в СУАР направлены на борьбу с международным терроризмом и сепаратизмом, и соразмерны угрозам. В поддержку Китая высказывались многие мусульманские страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет, а также Россия.
Из лагерей и тюрем не вернулись тысячи человек. Точную цифру умерших и пропавших в заключении назвать никто не может. По пессимистичным оценкам, речь может идти о десятках тысяч людей.
Как рассказывает Руне Стинберг, большинство «лагерей перевоспитания» начиная с 2020 года было закрыто. Однако в регионе по-прежнему работают другие учреждения, в которых мусульмане удерживаются насильно.
«[Закрытие лагерей] не значит, что все вышли на свободу, много людей находятся под домашним арестом или не могут покинуть свой район, село, город, других перевели на фабрики, где они работают в условиях, далеких от свободных», — отмечает антрополог.
«Мы подсчитали число заключенных в период с 2017 по 2019 год — это от 300 до 500 тысяч человек, большинство из них все еще находятся в тюрьмах, немногие были освобождены», — утверждает Стинберг.
«Это же для нашей безопасности»
«Первое, что я заметил в Синьцзяне — это что везде-везде тысячи камер, просто повсюду, — рассказывает Шахрияр. — Даже в пешеходных зонах: поворот домой, вход во двор — везде камеры, причем и на высоте, и на уровне роста. И местные жители типа нормально к этому относятся, говорят: «Ну, это же для нашей безопасности. Зато сейчас у нас нет воровства, грабежа и прочего». Ещё, кстати, разные сканеры биометрии повсюду».
Даже если к иностранцу не придут целенаправленно, как это произошло с Ипархан в ее отеле, власти имеют все возможности следить за перемещениями. «Документы сканируются постоянно. Отели, покупка билетов, проход на вокзал и тому подобное», — добавляет Шахрияр.
Заметного военного и полицейского присутствия на улицах стало значительно меньше. Это должно демонстрировать, что в регионе спокойно и население лояльно центральным властям.
«В 2011-12 годах все полицейские были этнические китайцы, и они все были в военной форме. И это создавало напряженную обстановку, — вспоминает Шахрияр свои прошлые поездки в регион. — Сейчас больше полицейских-уйгуров и казахов».
В Синьцзяне много туристов из других регионов Китая. «Весь этот туризм ориентирован на туристов из внутреннего Китая», — говорит Шахрияр, добавляя, что особенно популярны гастротуры, а также уйгурская национальная тематика.
«Например, услуга такая есть «одеваемся в национальные одежды», и там расценки в духе: тикток — 100 юаней, полноценная фотосессия примерно 700 юаней. И они одеваются, им делают макияж. Для пар, для одиночек. И для них это всё экзотика — вот, они в уйгурской национальной одежде, и это все для соцсетей», — рассказывает Шахрияр.
Такие фототуры особенно популярны в Кашгаре — историческом и культурном центре Синьцзяна. В 2023 году число туристов в этом городе с более чем 2000-летней истории впервые превысило миллион человек в месяц. По данным China Daily, за последние три года число компаний, организующих фотосессии в Кашгаре, выросло с двух до 200.

Ипархан отправилась в Кашгар на поезде из Урумчи. В купе были установлены видеокамеры, а другие пассажиры сторонились иностранки.
«Мне нужно было зарядить телефон в поезде. Я подошла к пожилому уйгуру и попросила разрешения подключиться к розетке [возле него]. Он начал разговор с вопроса «Откуда ты, дочка?» Когда ответила ему, два молодых уйгура сразу встали и ушли в свое купе, закрыв за собой дверь», — вспоминает Ипархан.
Пожилой мужчина объяснил их поведение тем, что молодые люди были узниками лагерей и сейчас находятся в «черном списке». Затем мужчина начал демонстративно и, как показалось Ипархан, с иронией восхвалять компартию Китая, приговаривая, что Кашгар «добился большого прогресса» благодаря их политике.
Шахрияр подтверждает, что люди становятся особенно осторожны, если узнают, что встречаются с иностранцем, который понимает и говорит на уйгурском.
«Для жителей Казахстана, допустим, «салам алейкум» — это такая бытовая фраза. А [в СУАР] надо понимать, что ты так не должен обращаться к людям — за такое их посадить могут, — рассказывает Шахрияр. — Мы, допустим, просто автоматически говорим: «Хюдаим буйриса» («Даст бог, увидимся» по-уйгурски). Вот такие вещи нельзя говорить категорически».
При этом, как заметил Шахрияр, многим хотелось бы пообщаться. Он вспоминает, как ходил четыре вечера ужинать в одно и то же заведение.
«И вот видишь человека четвертый день подряд. Понимаю, в первый день еще как-то более-менее можно «светски» разговаривать. «Как приехали? Все хорошо? Как видите, у нас тоже все замечательно, мы живем хорошо, у нас там такой экономический подъем. Мы благодарны государству». А потом ты его видишь на следующий день, на третий-четвертый… И он сидит, только чего-то хочет сказать, и поворачивается, но молчит. Что-то хочется спросить, но боится. Он не знает, как подойти».
«А как у вас там в школах?». Я говорю: «Да, у нас есть школы на русском языке, у нас есть на казахском языке, на уйгурском языке». И для него шок. «А как это у вас на уйгурском языке школы есть?»
«»А вот у нас дети учатся на китайском. Не знаем, что дальше будет. Мы учились на уйгурском. Сейчас детей, начиная с садика, начиная со школы, полностью учат на китайском. Для нас это все очень тяжело, очень». Потом он показывает знак [проводит указательным пальцем сверху вниз] — «включи авиарежим». И мы отходим в сторону поговорить».

Даже с выключенными телефонами и без свидетелей, говорят наши собеседники, уйгуры Синьцзяня высказываются очень осторожно и избегают конкретики.
Шахрияр говорит, что даже самые простые вещи в разговорах с глазу на глаз не все готовы произносить вслух. «»Нам жизнь сильно усложняют…» и дальше он хочет сказать «китайцы», но не может как будто. Уже выдрессировали себя. Раньше уйгуры говорили «Хытой» («Китай») в адрес китайцев, и это их оскорбляло. Потом говорили «ханьзу» — «ханьцы», но теперь и так нельзя говорить. Можно только «қериндашлар» или «йолдашлар», то есть, «кровные родственники» и «товарищи». «Товарищи очень усложняют нашу жизнь». То есть мы вдвоем, но он всё равно не может сказать слово «китайцы»».
Полумесяцы на могилах, китайский на улицах
50-летний Шарипхан Торе* — этнический казах, который родился и вырос в Или-Казахском автономном округе, входящем в состав Синьцзяна. Несколько поколений его семьи жило в этом регионе.
Торе эмигрировал в Казахстан в 1990-х годах и сменил гражданство. Позже он несколько раз посещал Синьцзян, получив китайскую визу. В последний раз — в 2016 году.
После введения безвизового режима весной 2024 года Торе решил навестить родных и съездить на могилу отца.
На кладбище он поехал с родственником, но тот отказался заходить на территорию. Тогда Шарипхан Торе один пошел к могиле и прочитал мусульманскую молитву.
«Когда я начал читать молитву, стоявшие снаружи казахи разбежались. Боятся», — говорит Торе.
По его словам, в начале 2024 года власти разрешили вернуть на могилы мусульманские символы полумесяца, которые были убраны в начале репрессий.

Ипархан рассказывает, что мечети также открыты и доступны для посещений. В Кашгаре она зашла в мечеть Ид Ках. Площадь здания XV века составляет около 16 тысяч квадратных метров, мечеть способна вместить до 20 тысяч человек. «Я просидела внутри несколько часов. За это время не было ни одного посетителя, кроме меня. В мечети не было видно даже имама», — рассказывает Ипархан.
В родном селе Шарипхана Торе, как и во всем округе, школы перевели на китайский язык. «Дети в нашем селе уже не говорят на казахском. Если дома родители разговаривают на казахском, то, когда отводят ребенка в детсад, там его учат только китайскому. И между собой дети говорят на китайском», — рассказывает Торе. По его наблюдениям, то же самое касается уйгурских и кыргызских классов.
«Сейчас на улице все говорят на китайском, если в магазине заговорить на казахском, тебя просят говорить на государственном языке. […] Через 5-10 лет вы уже не найдете там казахов, они будут все полностью ассимилированы. Молодежь уже не говорит на родном языке. Все мусульмане подверглись этому: и уйгуры, и кыргызы», — рассказывает Торе.
Безвизовый режим и страх
После введения безвизового режима поток китайских туристов в Казахстан увеличился более чем в полтора раза. По данным «Национальной компании Kazakh Tourism» (дочернее предприятие Министерства культуры и спорта), за 11 месяцев 2024 года страну посетили 605 тысяч китайских граждан, что на 65% больше, чем за предыдущий год.
Антрополог Руне Стинберг говорит, что мотивация Пекина ввести безвизовый режим и открыть границ направлена как на стимулирование экономики, так и на исправление имиджа после обвинений в геноциде этнических меньшинств.
«Я думаю, что отчасти это делается для того, чтобы противостоять нарративу о том, что Синьцзян — закрытое место, и что он такой темный и антиутопичный. Они [компартия Китая] создали много пропаганды о том, что все хорошо и все счастливы, и теперь таким способом пытаются предъявить доказательства и заставить людей поверить в то, что они говорят», — говорит ученый.
Стинберг после сбора данных заключил, что безвизовый режим ухудшил положение казахов и уйгуров, бежавших в Казахстан, поскольку сотрудники китайских спецслужб теперь могут навещать их беспрепятственно.
«Этнические казахи рассказывали мне, что у бывших узников лагерей и активистов были посетители из Синьцзяна, которые приехали без визы и были из службы безопасности или посланы ей. Они пришли к ним домой и допросили их, а также предупредили: «Если вы не будете себя хорошо вести, мы можем прийти в любое время, мы просто заберем вас и увезем». И люди очень боятся этого», — рассказывает Стинберг.
Более того, на положение этнических казахов и уйгуров может повлиять соглашение между Казахстаном и КНР об обмене данными, ратифицированное накануне ввода безвизового режима в октябре 2023 года. Тогда среди прочего стороны договорились ежеквартально обмениваться информацией по сменившим гражданство и нарушившим правила въезда, пребывания или выезда.
Антрополог отмечает, что безвизовый режим с Казахстаном не облегчает миграцию уйгуров в соседнюю страну. Они не могут пересечь границу и бежать в Казахстан — у большинства нет заграничных паспортов, и они буквально «заперты» в Синьцзяне.
«Это что-то вроде тюрьмы под открытым небом с границами, контролируемыми колониальной властью, и большинство уйгуров не могут выбраться наружу. Если и могут, то очень жестко контролируются их передвижения и то, с кем они могут встретиться, или когда они должны вернуться, иначе их семьи на родине будут наказаны», — отмечает исследователь.
По данным переписи населения, из почти 26 миллионов населения Синьцзяна казахи составляют менее 6%, а уйгуры — 45%. Китайцев — около 42%.
В Казахстан ежегодно мигрируют тысячи этнических казахов из Китая. Исследователи отмечают, что уйгуры, которые все же могут покинуть Китай, используют Казахстан для транзита, по возможности скорее отправляясь дальше. Сами уйгуры объясняют это тем, что казахстанские власти не могут защитить их от преследования Пекина.

Еще один эпизод из поездки в СУАР оставил у туристки Ипархан сильные впечатления. Она наняла частное такси и выехала за город. По дороге таксист разговаривал с пассажиркой на уйгурском. В какой-то момент девушка и водитель заметили, что за ними едет затонированная машина.
«Салон автомобиля был затемнен, и не было видно, кто сидит за рулем и сколько человек внутри. Когда мы приехали в нужное место, я вышла и оставила такси, попросив водителя подождать меня. Когда я вернулась, на нем не было лица. Таксист рассказал, что из следовавшей за ними машины вышли четыре человека и допросили его о пассажирке. Они напугали его, назад мы ехали в тишине», — делиться Ипархан.
Девушка признается, что за время посещения Синьцзяна она мало с кем разговаривала, опасаясь за безопасность местных жителей — чтобы их не вызвали на допрос спецслужбы.
В Кашгаре к Ипархан подошел подросток, который поинтересовался, нужна ли ей помощь. Парень, узнав происхождение Ипархан, попросил её передать эмигрировавшим уйгурам, чтобы они никогда не возвращались в Синьцзян.
* Имена собеседников изменены по их просьбе
При участии Еркина Дамоллы.
Иллюстрации: Магеррам Зейналов.
Редактор: Павел Бандаков.